Опубликовано ср, 20/04/2016 - 11:06 пользователем АлександрШ
ID: 107267
ID: 107267
Изображения






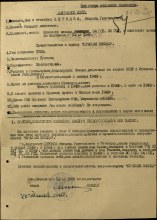
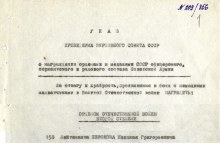
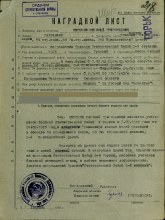
События из жизни персоны
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Родился | 1925 | деревня Бали (Большие Бали) (Богородский район, Кировская область) - часть другого н.п. | |
| Награждён: награждение орденом "Отечественной войны II степени" | 22.07.1945 | Приказ ВС Ленинградского фронта № 1146/н | |
| Награждён: Орденом Отечественной войны II степени | 30.05.1951 | http://podvignaroda.ru | |
| Награждён: Орденом Отечественной войны I степени | 06.04.1985 | http://podvignaroda.ru |

Немного отредактировал сведения на участника ВОВ, привязал рождение к населенному пункту на сайте. Вероятно, "АлександрШ" не успел написать биографию Широкова Н.Г. Было бы интересно знать, где служил, за что награжден, как сложилась судьба после войны.
Мой отец – Широков Николай Григорьевич был призван на фронт в январе 1943 года из деревни Б.Бали Богородского района Кировской области.
В составе 755 стрелкового полка 217 СД 11-й гвардейской армии Брянского фронта участвовал в наступлении на Брянск и форсировании Десны. 20 сентября 1943 г красноармеец Широков Н.Г. был ранен и отправлен в госпиталь.
После выздоровления папу направили на офицерские курсы. По окончании курсов попал в 251 стрелковый полк 85 гв.СД Ленинградского фронта командиром взвода пешей разведки. Во время наступательных действий по освобождению Прибалтики 24 июля 1944 г снова был ранен. После окончания лечения папа был отправлен в 934 стрелковый полк 256 СД. В боевых действиях во время Рижской наступательной операции 7 октября 1944 г мл.лейтенант Широков Н.Г. был ранен в третий раз.
В декабре 1944 г папа был направлен в 94 гв.СП 30 гв.СД 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта В боях по ликвидации «Курляндского котла» 24 марта 1945 г гвардии лейтенант Широков Н.Г. получил свое последнее тяжелое ранение, за 45 дней до Великой Победы.
Более полугода папа находился на излечении в Военно-медицинской академии в Ленинграде и вернулся домой только в ноябре 1945 года. Награжден медалью «За Победу над Германией» и орденом «Отечественной войны II ст.».
В мирной жизни окончил Кировский пединститут и всю жизнь проработал учителем. Сначала в Спасской школе Богородского района, а затем в Пошатовской школе Горьковской области. Награжден всевозможными юбилейными наградами. Воспитал трех сыновей и дочь. Построил два дома. Умер в 2004 году. Царствие ему небесное!
Николай Григорьевич Широков мой учитель и классный руководитель в 6-8 классах Спасской восьмилетней школы в 1958-1962 годах. Прекрассный педагог. Мой отец - Костяев Иван Кондратьевич дружил с Николаем Григорьевичем и они часто беседовали о моей учебе. После окончания 8-го класса, а он не был для нас выпускным, мы всем клаасным коллективом под руководством Николая Григорьевича заготовили для школы дрова на зиму и на заработанные деньги поехали с ним в г. Киров на экскурсию. Никто из нас ещё не бывал в г. Кирове. Экскурсия была интересной. А в 6-7 классах Николай Григорьевич устраивал классные вечера, где он под гармошку пел фронтовые песни. Особенно он любил петь песню "Вьётся в тесной печурке огонь", которую разучивал с нами. Мы все благодарны Николаю Григорьевичу за знания и полученное воспитание.
Царство ему небесное! С благодарностью его ученик А. Костяев
Широков Николай Григорьевич – мой папа. Бабушка родила его в сорок три года. Был он любимчиком в семье, потому что - последыш. Детство прошло у него как у всех – в учебе и посильной работе, помощи отцу и матери. Старшие братья уже были в Кирове на учебе и в дальнейшем на работе, так что основным помощником своего отца Григория Романовича был в это время Коля. Учился в Спасской семилетней школе он хорошо и с удовольствием. Десятилетку заканчивал уже во время войны в 1942 году. И уже в январе месяце 1943 года его призвали в армию. Умного крепкого парня с 10-ю классами образования направили на офицерские курсы, во 2-е Ленинградское военно-пехотное стрелково-пулеметное училище в город Глазов, куда оно было эвакуировано в 1941 году из Ленинграда..
Сначала папа был зачислен во 2-ю пулеметную роту, где готовили командиров пулеметных взводов. Как рассказывал папа, учились курсанты прилежно и за короткий срок хорошо изучили стрелковое оружие и не плохо из него стреляли. Уделялось много времени и командирской подготовке, топографии, тактике, караульной службе. Потом папу перевели в минометную роту, в которой он прослужил около месяца. Во время учебы в училище, как папа говорил, было голодновато. К нему с провизией, с домашней едой один раз приезжали на попутках его сестры – Нюра и Феня.
Наступил июль 1943 года, началась Орловско-Курская наступательная операция, Красной армии нужно было пополнение. Выпуститься из училища и получить офицерское звание, папа не успел. Весь личный состав училища во главе с начальником училища двадцатью маршевыми ротами по 150 человек был отправлен на фронт. Ехали эшелоном недолго. В Москве всех полностью переобмундировали, но оружие не выдавали. От Москвы перебросили эшелонами дальше, видимо, под Козельск. Высадили на какой-то разбитой полусгоревшей станции, откуда неделю сутками, днем и ночью, шли какими-то большаками на юго-запад.
Полусонная, полуголодная колонна усталых бойцов преображалась, когда налетали фашистские самолеты. По команде «Воздух!» все вихрем рассыпались по обочинам дорог и замирали, вжавшись в землю.
Наконец-то дошли до места недавних жарких боев, всюду гарь и смрад, тяжелый трупный запах, разрушенные и сожженные деревни без жителей. Сутки еще простояли развернутые в цепь, около наших дальнобойных орудий.
А 7 августа 1943 года папа попал в 755-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии, который был сосредоточен в районе местечка Льгова под Брянском. 217-я стрелковая дивизия в составе Брянского фронта готовилась к наступлению по освобождению города Брянска, а в то время была выведена из боевых действий в резерв 11 гвардейской армии для пополнения и перегруппировки.
Выдали красноармейцу Широкову автомат ППШ и к нему запас патронов. Расположилась папина рота за небольшим бугром ржаного поля. Немецкие пули свищут над головой, прижимают к земле, бьют минометы. Сумерки, но немцы заметили пополнение и сильным огнем заставили под обстрелом залечь. В папином взводе на 30 человек всего две лопатки: у командира взвода и замкомвзвода. Пока папа ждал своей очереди на лопату, он начал окапываться крышкой от диска ППШ. Наконец получив немецкую саперную лопатку быстро углубил окоп на полметра и привел в боевую готовность ППШ.
Еще не успев окопаться, взвод лишился своего командира, тот привстал в своем окопе, чтобы подать какую-то команду, но не успел. Упал.
«Я не сразу сообразил, что случилось, - как рассказывал нам потом папа, - а товарищи, кто был поближе к командиру, у него уже забрали оружие, сняли с пояса лопатку, сдернули с ног сапоги. Только тогда я понял, что командир погиб. Шальная пуля, говорят, попала ему прямо в сердце. Его документы и награды мы потом передали командиру роты. Так началась наша фронтовая жизнь. Но все главное было впереди – близко с немцами мы еще не встречались…»
Уже 9 августа началось наступление, но, на папино счастье, 755-й полк сначала был во втором эшелоне.
«…Раннее утро, - продолжал нам свой завораживающий рассказ папа. – Мы окопались в поле, раскинувшись цепью. Командир роты приказал: как только мы услышим сзади грохот приближавшихся наших танков, приподняться, чтобы танкисты видели нас и не передавили гусеницами. Пропустив танки, получили команду «Вперед!». Только цепь поднялась, немцы ударили по нам из пулеметов и минометов. Мы быстрыми перебежками с автоматами и винтовками наперевес продвигаемся вперед, стреляя на ходу. Стояла жара, а я дрожал, как от холода, от нервного напряжения…»
В течении августа и первой половины сентября подразделения 755-го стрелкового полка наступали, преодолевая упорное сопротивление противника. И если вчитаться в сухие строки Журнала боевых действий 217-й стрелковой дивизии, то можно попытаться представить, что выпало там на долю необстрелянного рядового красноармейца, каким был мой папа.
«Части дивизии продолжая наступление во второй половине дня 17.08.43 преодолевая сопротивление противника овладели деревней Селище, высотой с дорогами, что северо-западнее 1 км. Верхоболотье и продвинулись 300-400 м. западнее Осиновки. В течении ночи и первой половины дня 18.08.43 вели разведку противника закрепляясь на достигнутом рубеже и вели ружейно-пулеметную перестрелку. Первый батальон 755 стрелкового полка ведя разведку противника и преодолевая незначительное сопротивление мелких групп автоматчиков противника к 12.00 достиг перекрестка троп в районе высоты 184,0, что в 1,5 км. западнее Дудоровы Дворы».
Утром 16 сентября 217-я стрелковая дивизия в составе 25-го стрелкового корпуса приступила к форсированию реки Десны с рубежа Верхополье, Рябчевка. Под прикрытием дымовой завесы 755 стрелковый полк переправился через Десну в районе Свенского монастыря. Взломав оборону противника к ночи 19 сентября подразделения 755 стрелкового полка вышли на рубеж Малый Крупец, Ольховка, Орменка.
«… Прошло больше месяца почти непрерывных боев, - продолжал папа свой реассказ. – Многих моих однополчан уже не было рядом: кто ранен, а кто убит. Меня назначили санинструктором роты. Это добавило дополнительные обязанности. Когда в передышки между боями все отдыхают, я должен был побеспокоиться о поддержания здоровья личного состава роты: обеспечить питьевой водой, организовать помывку в бане и обеззараживание обмундирования, перевязать небольшие раны и потертости. Во время боя оказывал помощь раненым, под огнем вытаскивал тяжелораненых с поля боя и отправлял их дальше в санчасть.
Но вот новый приказ – разведка боем. Нас передислоцировали в лес, выдали сухой паек и сто граммов водки. Но не успели мы поесть, как немцы открыли по нам минометный огонь. Мы приготовились к наступлению. Сначала была артподготовка, а потом приказ: «В атаку!» - и все двинулись. Услышав крики первых раненых, я бросился к ним на помощь. Вдруг рядом со мной разрыв. Меня оглушило и засыпало землей. Боли сначала никакой не почувствовал, но стал ощупывать себя: на шее и по левой руке ручьем течет кровь, на левой лопатке осколком мины развороченная рана, рука повисла. Невдалеке в ровике обнаружил командира взвода и доложил ему, что из-за ранения не могу выполнять свои обязанности. Он несправедливо и обидно меня обругал.
- Обрадовался, что получил рану? В госпиталь захотел попасть? Выполнять приказ боец. Вперед!
Сам же он спрятался в укрытии, не принимая участие в бою, забыв про свой долг командира личным примером воодушевлять бойцов своего взвода.
Ошеломленный я оставил возле него санитарную сумку, а сам подошел к пушке стоящей неподалеку. Ребята-артиллеристы в орудийном расчете оказались отзывчивыми. Сделали мне перевязку и посоветовали быстрее отправиться в санчасть – рана серьезная. Я им оставил свой ППШ, а у них взял винтовку. Был приказ раненых, прибывших в санчасть на своих ногах без оружия, не принимать, чтобы никто не бросал свое оружие».
Видимо во время попытки с ходу атаковать восточную окраину города Почеп 20 сентября 1943 года папа и был ранен осколком мины. Из санчасти его отправили в медсанбат, где сделали операцию, а потом еще папа долго лечился в 1347 госпитале для легкораненых на окраине города Орла.
После ранения папу направили на офицерские курсы в город Вышний Волочек, где он попал в разведроту. Откуда через 4 месяца, получив звание «младший лейтенант», он прибыл в 251-й стрелковый полк 85-й стрелковой дивизии 42-й Армии Ленинградского фронта. Здесь его назначили командиром взвода пешей разведки. Раз назначили - надо командовать, выполнять боевые задачи, ходить в разведку, «брать языка» и т.д.
251-й полк 85-й дивизии в составе 110 стрелкового корпуса участвовал в январе 1944 года в наступлении в направлении Пушкина в ходе Красносельско-Ропшинской операции. 23 июля 1944 года дивизия в составе 15-го стрелкового корпуса после артналета форсировала реку Ритупе и на следующий день овладела плацдармом на ее западном берегу. А на следующий день во время очередной разведки папа получает второе ранение. Осколки мины попадают в левую голень и шею.
После излечения в дивизионном медсанбате 8 сентября 1944 года папу отправляют в 934-й стрелковый полк 256-й стрелковой дивизии той же 42-й армии, в которой он был до ранения.
Эта 256-я стрелковая дивизия с марта 1944 года находилась под Нарвой. В начале апреля 1944 года была окружена на Ауверерском плацдарме близ Нарвы, где понесла большие потери. 26 июля 1944 года она участвует в освобождении Нарвы, за что получает в Приказе Главно-командующего почетное наименование «Нарвская», после чего была отведена для пополнения и в августе передана в 42-ю армию. В это самое время папа приходит в нее на доукомплектование 934 стрелкового полка, в составе которого принимает участие в Мадонской операции. Но 7 октября во время поиска «языка» под местечком Резекне командир взвода младший лейтенант Широков получает третье ранение, как написано в справке очередного Госпиталя для легкораненых - «слепое осколочное ранение мягких тканей правого бедра».
Дивизия уже без него в середине октября 1944 года передислоцируется с 42-й армией юго-западнее Риги, где с 16 ноября 1944 года наступает в ходе Рижской операции на Лиепаю, выйдя к Тукумскому оборонительному рубежу. До апреля 1945 года подразделения 256-й стрелковой дивизии ведут малоуспешные бои по ликвидации Курляндской группировки противника.
5 декабря 1944 года, после выписки из госпиталя, папа направляется в 94 гвардейский стрелковый полк 30-й гвардейской стрелковой дивизии.
Дивизия создана в марте 1941 в северо-восточном Казахстане как 238 "польская" стрелковая дивизия (комплектовалась поляками советского происхождения, лицами, знающими польский язык или просто с польскими фамилиями). С 16 ноября 1941 года включена в 49 Армию Западного Фронта, где 24 мая 1942 года стала 30-й гвардейской стрелковой дивизией.
В конце мая 1944 года 30 гвардейская стрелковая дивизия 10-й гвардейской армии была выведена в резерв фронта, ей предстояло подготовиться к боям по освобождению Латвии.
В ночь на 11 октября части 30-й гвардейской стрелковой дивизии переправились на противоположный берег Даугавы. Здесь предстояло наступать вдоль южного берега реки и совместно с 29-й гвардейской стрелковой дивизией гвардии полковника В. М. Лазарева очистить от противника левобережную Ригу. Остальными силами 10-я гвардейская армия должна была пробиваться к побережью Рижского залива, чтобы отсечь немецким войскам путь отхода в Курляндию. Эти бои были завершающим этапом Рижской операции.
Приказом Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза Сталина И.В. от 13 октября 1944 года многим солдатам и офицерам была объявлена благодарность - за участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков столицы Латвии города Риги. Наиболее отличившимся воинским частям и соединениям, в том числе и 30-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии, присвоено наименование "Рижская".
Семь месяцев до Дня Победы войска Прибалтийских и Ленинградского фронтов вели бои на 200-километровом рубеже между городами Тукумсом и Либавой против крупной группировки немецких армий "Север". Здесь в Курляндском "котле" были прижаты к морю 38 вражеских дивизий, в том числе две танковые, общей численностью свыше 300 тысяч человек. При этом в отличие от группировки Паулюса на Волге, в составе которой было немало румынских и итальянских войск, не отличавшихся особой боеспособностью, в Курляндии находились кадровые, преданные фашистскому режиму, хорошо укомплектованные дивизии. Возраст солдат, как правило, не превышал 35 лет. Кроме того, Курляндская группировка находилась в лучшем положении, нежели Сталинградская. Там армия Паулюса была полностью отрезана от основных сил гитлеровских войск. Здесь же, в Курляндии, немецкие войска были лишь прижаты к Балтийскому морю и имели возможность силами флота держать связь с Германией: получать через порты Либаву и Виндаву боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Эвакуация также осуществлялась морским путем.
Наступил 1945 год. Немецко-фашистские войска терпели одно поражение за другим и под ударами Белорусских и 1-го Украинского фронтов откатывались к границам Германии. В январе началась Висло-Одерская операция советских войск. Гитлеровское командование, надеясь спасти положение на подступах к Берлину, пыталось перебросить морским путем часть своих войск с Курляндского полуострова в Польшу. К портам Либава и Виндава направлялась для погрузки на суда часть сил из группы армий "Курляндия". Чтобы сорвать эту попытку и не допустить вывода немецких войск из Курляндии, 2-й Прибалтийский фронт организовал наступательную операцию в направлении на Салдус и Тукумс. 23 января 10-я гвардейская армия нанесла удар в направлении на Салдус, где 30-й гвардейской дивизии довелось вести ожесточенные бои за хутор Карклини. И тогда, чтобы удержать рубеж обороны под Салдусом и Тукумсом, немецкое командование вынуждено было возвратить свои войска с побережья Балтийского моря в полосу наступления 2-го Прибалтийского фронта.
Пытаясь прорваться к Салдусу, 10-я гвардейская армия ввела в бой свои главные силы, а затем и резервы, но преодолеть сопротивление противника не удалось. Гитлеровцы прочно укрепились на этом рубеже. Даже на болотах соорудили дзоты, а для танков и самоходных орудий оборудовали надежные убежища, где они укрывались во время нашей артиллерийской подготовки. Огнем артиллерии, "фердинандов" и реактивными метательными аппаратами враг сдерживал наступление гвардейцев. Сопротивление значительно усилилось после ввода в бой возвратившихся из порта Либава свежих резервов.
Бой за хутор Карклини на подступах к Салдусу 30-я гвардейская дивизия вела около недели. Пулеметная стрельба не прекращалась ни днем, ни ночью, гремела артиллерийская канонада, а затерявшийся среди болот хутор Карклини неоднократно переходил из рук в руки и был уничтожен дотла. Там, где еще недавно стояли дома и постройки, теперь все было перепахано взрывами авиабомб, реактивными метательными аппаратами и артиллерийскими снарядами. Хутор Карклини существовал лишь как надпись на картах, но гвардейцам 30-й дивизии он крепко запомнился. Много хуторов встретилось на фронтовом пути дивизии при освобождении Латвии, их названия забылись, стерлись в памяти, однако Карклини помнит каждый, кому довелось участвовать в тех боях на Курляндском полуострове.
Вот где-то там в окрестностях городка Добеле 24 марта 1945 года папа и получил свое четвертое тяжелое ранение. Он рассказывал, что во время передышки сидели они с бойцами его взвода разведки в блиндаже, греясь и обсыхая около печки-«буржуйки». В это время в блиндаж зашел еще один солдат и что-то вытаскивая из кармана шинели обронил на пол взведенную гранату-«лимонку». Она взорвалась. Досталось кому что, тот солдат погиб, а папа с множественными осколочными ранениями обеих ног с повреждением левого коленного сустава и большеберцовой кости отправился в очередной госпиталь.
Как относиться к этому случаю? С нашей точки зрения сегодняшней мирной жизни можно назвать это происшествие нелепым, не логичным на такой ужасной войне, когда солдаты погибали, понимая, что они делают и ради чего. Но видимо во время такой страшной «мясорубки», как прошедшая Отечественная война, было много и «неизвестных героев», которые знали, что надо просто воевать, бить врага, гнать его с нашей земли и очень хотели, если получиться, вернуться с победой домой. Но война брала свою плату.
В связи с тяжестью ранения папа был отправлен на лечение в Ленинград в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, где лечился до октября 1945 года. День Победы он встретил на больничной койке.