О нанесении обиды крестьянином села Пьяного Бора Тихоном Васильевым
односельцу своему Данилу Красильникову, 12-15 мая 1703 года.
(РГАДА Ф. 1139, Оп. 1, Д. 18, 1703 год, из фонда «Мензелинская приказная изба, 1702-1715 гг.»)
На хранении в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), в фонде 1139 наличествует 100 дел, связанных с историей жителей пригорода Мензелинска и ближайших к нему деревень, в которых можно встретить удивительные, а иногда и скабрезные подробности бытового характера об обидах, побегах, спорных рыбных ловлях, потравах, сборе оброков и пошлин, судные дела русских, башкир, татар, чувашей и др. Среди участников разбирательств нередко упоминаются жители села Старого Пьяного Бора, деревень Юртово, Березовой Гривы, Сарсаза, Игима, Мелькеней, Маткаушей, Прости, Юшады, Умьядки (Мазино), Быргынды, Дыреевки, Бокалов и иных населённых пунктов.
Мензелинск в начале XVIII века управлялся подчинённым Уфе воеводой, дела, связанные с жалобами, рассматривались в Мензелинской приказной избе. Жалобы писались на имя царя, назывались они челобитными, по итогам которых в доход государства взималась «гривна». Гривна уплачивалась и в случае примирения сторон, компенсируя расходы государства на поддержание правопорядка. Помимо дел Мензелинской приказной избы за 1702-1715 годы, в РГАДА имеются дела и за другие периоды. В период с 1715 по 1727 гг. подобные дела рассматривались сначала в Ландратской канцелярии, затем в канцелярии судных и розыскных дел (в мензелинской ландратской канцелярии, в мензелинском меньшом нижнем суде, РГАДА Ф. 1017, Оп. 1, количество дел – 75 ед.). В период с 1727 по 1781 гг. такие же дела рассматривались мензелинской воеводской канцелярией, относившейся к Уфимской провинции Казанской губернии, а с конца 1744 года – к Оренбургской губернии (РГАДА Ф. 529, Оп. 1, количество дел – 2808 ед.). Объем документов с 1702 по 1781 гг. значителен, и эти документы ещё ожидают своих будущих исследователей.
Благодаря проекту «Великие описи» энтузиастами были проиндексированы заголовки этих дел, но содержание заголовков не всегда в полной мере соответствует их фактическому содержимому, зачастую при составлении архивными работниками описей, в виду незначительности содержимого, документы просматривались поверхностно. Например, в рассматриваемом деле в заголовке потерпевший был указан односельцем обидчика, но из материалов дела этого совсем не следует, потерпевший относился к мензелинским бурлакам, что само по себе интересно, ведь дело происходило в мае 1703 года, а через полтора года Уфимский край всколыхнется в огне башкирского восстания.
В ходе рассмотрения приказной избой челобитных помимо свидетелей нередко упоминались посторонние лица, благодаря которым возможно сопоставить записанных в переписях без фамилий крестьян. Среди свидетелей упоминаются мензелинские иноземцы - потомки переселённой в середине XVII века польской шляхты. В расшифровке будет упомянуто одно из таких лиц – Артемей Лазовшой. Косвенно упоминается о наличии в 1703 году в мензелинской крепости казаков, имевших собственные домохозяйства, включая скот. Казаки могли быть конными и линейными, иногда их записывали бобыльскими, а после завершения службы – отставными. Они несли крепостную службу, пасти скот им было невместно, за них это в 1703 году осуществлял нанятой человек – коровий пастух Тимофей Пономарёв. Коней пасли отдельно. Казаки нередко ссорились между собой и с другими жителями, что в дальнейшем являлось также предметом разбирательств в приказной избе. Потомки отставных мензелинских казаков в дальнейшем фигурировали солдатскими детьми, а в будущем числились среди мензелинских мещан. Сыновья военных шли по стопам своих отцов, действующие и отставные военные лица с семьями освобождались от уплаты налогов. Жизнь служивого человека была нелегка, но служба являлась более почётным и уважаемым занятием, чем крестьянский труд. Стремлением к переходу в крестьянское сословие потомки служивых людей не отличались, однако нередки были случаи перечисления солдатских детей (а также детей церковников) в крестьянское сословие, за неспособностью их к службе, а также после разжалований, и в наказание.
Иногда, всё же, отставные служивые ставили себе хутора, но в Уфимском уезде, в виду неспокойной обстановки, это было опасно. Через полтора года, в декабре 1704 года вспыхнет очередной бунт, в последующем названный «Алдаровский и Кусюмовский», крепости Уфимского уезда подвергнутся штурму, деревни и села от Кунгура до Сарапула и Казани, с эпицентром в Уфимском уезде, окажутся в зоне длительных, многолетних, масштабных военных действий. Окончательно восстание было подавлено лишь в конце 1711 года. Многие деревни были сожжены, а население в ходе набегов ликвидировано и угнано в плен. Особенно досталось православным храмам, они были разграблены и уничтожены…
Одним из интереснейших дел, рассмотренных Мензелинской приказной избой, является оказавшееся в нашем распоряжении дело за 1703 год, которое никогда не будет пользоваться вниманием у почтенной публики. В разросшейся военной крепости Мензелинске, ставшей к 1683 году одним из казанских пригородков (пригородом), в 1703 году имелся центр социального притяжения - кружечный двор (так с подачи батюшки царя Алексея Михайловича с 1651 года именовались кабаки), в котором местный люд, приняв на грудь горячительного, иногда буянил. В числе хулиганов отличился тягловый (а не дворцовый) крестьянин села Старый Пьяный Бор Тихон Васильев. Потомки Тихона неизвестны, фамилия его тоже осталась неизвестной, возможно её у него и не было. Подвыпив, Тихон прилюдно бранился и задирал в оскорбительных выражениях мензелинского бурлака. Ссора случилась в погожий весенний день 12 мая 1703 года, на летнике того самого мензелинского кружечного двора, да ещё и при трёх свидетелях – местном иноземце, кабацком караульщике и пастухе. Тихон был груб, оскорбил мать бурлака Данилы Петрова Красильникова своими непотребными рассказами о ней, после чего возмущённый бурлак через грамотного человека подал жалобу на имя царя. Сам Данила способен был лишь с трудом накарябать несколько слов со своими именем и фамилией, подписываясь под документом. Степень владения пером у бурлака не превышала уровень квалификации современного 5-тилетнего ребенка, пытающегося с помощью тупого карандаша повторить в мамином паспорте очертания нескольких букв и цифр с обложки документа.
На следующий день, 13 мая 1703 года, жалоба поступила в Мензелинскую приказную избу и была принята к рассмотрению. Допросить обидчика не успели. Протрезвев, Данила с Тихоном помирились, и 14 мая принесли новую челобитную, в которой сообщали о своём примирении и о том, что мировую гривну заплатит Тихон. С Тихона в доход казны было взято 64 деньги. 15 мая дело закрыли, а запись о взятии гривны была внесена в приходную книгу приказной избы. Деньга в тот период составляла полкопейки, в одном алтыне было 6 денег, т.е. с Тихона взяли 32 копейки, а на рубль в 1703 году можно было купить корову. Мириться было дорого, но ещё дороже было не мириться…
Денежная единица – алтын долгие годы применялась в российском финансовом обороте. При всём своём неудобстве по отношению к рублю, алтын прекрасно «смотрелся» по отношению к более крупной царской монете номиналом в 3 рубля, заменявшей 100 алтынов. В одном рубле, как и сейчас, было 100 копеек, а в трёхрублёвиках – 100 алтынов (600 денег). Так выглядела медная деньга Петровских времён образца 1703 года выпуска:

Денга. Петр I. «Царь и великий князь Петр Алексиевичъ / всея России самодержецъ». 1703 год. Медь, 5,3 грамм.
Интересным в представляемом документе является факт упоминания в мае 1703 года села Старый Пьяный Бор, подразумевающий одновременное существование другого населённого пункта со схожим названием – Новый Пьяный Бор. Иным документальным свидетельством наличия через реку Каму двух одноимённых поселений является документ 1700 года о споре крестьян села Дуваней починка Калинника между Григорием Соленовым и Богданом Ермолаевым, завершившимся примирением сторон. Богдан Ермолин и его отец Ермошка были указаны бывшими тягловыми крестьянами из села Пьяного Старого Бора, Богдашка платил тягло 4 алтына, откуда был родом Ермошка - неизвестно. В период башкирского разорения 1681-1683 гг., названного историками Сеитовским бунтом, село было разорено, в тот период оно называлось Пьяный Бор. Ермошка с малолетним Богдашкой скрылись в селе Арбуга Синбирской Черты, но затем вернулись на прежнее место жительства и жили в нём до 1700 года в «по памест» села Пьяный Бор, после отстройки ставшего именоваться Старым Пьяным Бором. В 1700 году Богдашка Ермолин сдал своё тягло «того села попу Кириллу Иванову, а здаточной у него нет» (РГАДА Ф. 1173, Оп. 1, Д. 1313, 1700 год). Новое поселение – Новый Пьяный Бор на противоположном берегу Камы появляется около 1683 года, но не позднее 1699 года. Сформировавшееся стихийно в неудобном и недоступном для конных набегов закамское по отношению к селу Старый Пьяный Бор поселение селом становится сразу, минуя стадию починка/деревни. Косвенным подтверждением тому могут быть отметки неизвестного человека в печатном дореволюционном издании, информирующими об устройстве церкви в 1682 году. Подтверждений тому нет, однако указанная дата коррелирует с известными источниками и сведениями о селе Новый Пьяный Бор.
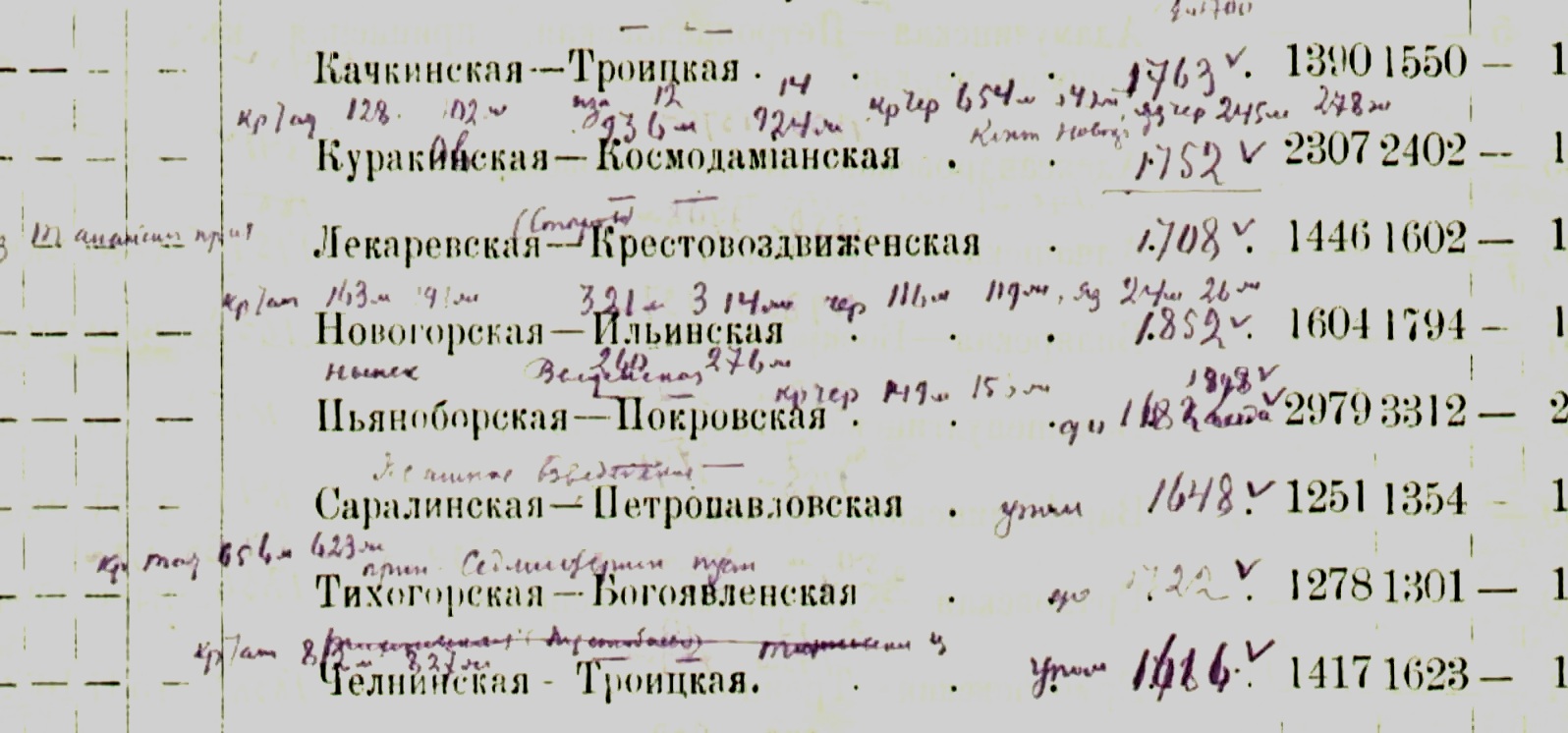
В оригинале расшифрованного документа за 1703 год в некоторых словах традиционно пропускаются гласные буквы, например, в словах – «царь», «государь», «год» и др. В прилагаемой расшифровке такие пропуски, для нашего удобства, исправлены. Часть документа в переплете не сохранилась, окончания некоторых слов по смыслу дописаны в квадратных скобках. Знаки препинания в документе отсутствуют, поэтому они расставлены по смыслу.
Обложка: № 18. Ф. Мензелинская приказная изба. 4л.
(л. 1) № 22 32 30 25 (зачёркнуто) Маия 13 дня 1703 года
Дело решеное по челобитью мензелинскаго бурлака Данилы Красилникова Уфимскаго уезду села Старого Пьяного Бору на жителя Тихана Васильева в бесчестии и в протчем на 4 листах.
По описе № 18 М. Пр. И – 18 /Мензелинская приказная изба – 18/
(л. 2) 1703 год Маия в 13 день допросить. Печать.
[внизу листа, коряво, слитно] Данила Кросилников руку приложил. Федор. Печать.
(л. 2об.) Державнейший Царь Государь милостьвейший!
В нынешн[ем] Государь 1703м году маия в 12 день будучи в Мензелинску на кружечном дворе на летнике Уфинскаго уезду Села Стараго Пьянаго Бору житель Тихан чей сын не знаю бранил меня раба твоего матерна и говорил будто он Тихан мать мою блудно ублудил в рот и тем он Тихан меня и мать мою обысчестил, а свидетели в то число были мензелинской иноземец Артемей Лазовшой, да кружечн[аго] двора караульщик Иван Габышев, да [о]ных казаков пастух коровей Тимофей П[а]ламарев.
Всемилостивейший Государь! Прошу Вашего Величества, вели, Государь, иво, Тихана, сыскать, а против вышеписаннаго мое[го] челобитья допросить, а свидетели розыскать. А ныне, он, Тихан, в Мензелинску.
Вашего величест[ва] нижайши[й] раб мензелинской бурлак Дани[ла] Петров сын Красилников.
Маия в 13 день 1703 года.
(л. 3) 1703 год маия 15 день взять к прежнему челобитью и взять мировые гривны по указу и записать в приходскую книгу. Печать.
[внизу листа, коряво, слитно] Данила Красилников руку приложил. Печать.
К сей челобитной Сава Пироговской вместо челобитчика Тихана Васильева по ево велению руку приложил.
(л. 3об.) Державнейший Царь Государь милостивейший!
В нынешнем Государь 1703м году маия в 12 день бил челом тебе Государю я Уфинского уезду Села Старого Пьяного Бору на крестьянина на Тихона Васильева, что он Тихон бранил мать мою и меня всякою неподобною бранью и в том деле он Тихон неходя в допрос сыскан я. В правдах меж собою помирились и в предь нам по тому делу друг на друга тебе Государю не бить челом ис того дела не вчинать, а с того челобитья твои государевы мировые гривны платить мне, Тихону.
Всемилостивейший Государь! Просим вашего величества велить Государь сие наше челобитье и мир записать и сию нашу челобитную взять к прежнему челобитью.
Вашего величества нижайшие рабы мензелинской житель Данило Петров сын Красилников да тяглой крестьянин Уфинского уезду села Старого Пьяного Бору Тихан Васильев маия в 14 день 1703 году.
(л. 4) По сему делу 64 денги взято и в приходскую книгу записаны. А взять те мировые гривны с Тихона Васильева. 64 деньги.
(л. 4об.) Итого 3 листа.
(л. 5) Заверяющий к делу лист архивного работника.
В настоящем деле № 18 писано и пронумеровано 4 листа четыре листа 26/III-49 г. Данилочкин.

Всегда с большим интересом читаю Ваши публикации. Особенно заинтересовала история села Каракулино. Любопытно, живут ли там потомки Каракула - Каракулины. Спасибо за интересную историю.
Есть такая работа https://rodnaya-vyatka.ru/blog/12777/136935
Она требует актуализации, я брался много раз за неё, но до конца пока ещё не довёл. Ответы на некоторые вопросы можно получить там. В текущем году постараюсь довести до ума и обновить.
Нового материала будет внесено немало. Но нет предела совершенству. И после этого не раз еще найдется, чем дополнить. 😁